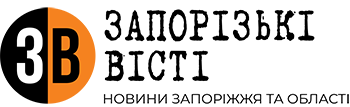20 мая 1991. Киев. Франьо Туджман — президент Хорватии, на тот момент еще югославской республики, — только что закончил переговоры с председателем Верховной Рады УССР Леонидом Кравчуком о военном альянсе с Украиной и ждет в одном из кабинетов на важный телефонный звонок с родины. Он берет трубку. Собеседник сообщает ему результаты референдума, который должен был определить судьбу Хорватии. 93,2% поддерживают независимость.
Лицо Туджмана озаряет радость: первый шаг сделан. Впереди война, потеря и возвращение территорий, политическое противостояние, изоляция, но в конце — становление современной Хорватии — члена НАТО и ЕС.
Независимые Хорватия и Украина — почти ровесницы. Но Хорватия за 30 лет смогла достичь гораздо большего. Как хорватам это удалось?
От Югославии до Туджмана
В средневековье Хорватия некоторое время уже была независимым государством, но потом столетиями хорватские земли принадлежали Венгрии и Австро-Венгерской империи. Последняя исчезла в пучине Первой мировой войны, зато образовалось Королевство сербов, хорватов и словенцев, с 1929 года известное как Югославия.
Этой страной управляла сербская династия, а правительство в основном отстаивал интересы сербских элит. Надежды хорватов на равноправие и автономию растаяли после убийства хорватского лидера Степана Радича в 1928 году, взамен росла вражда сербов и хорватов, которую раздували политики с обеих сторон.
Разодранная распрями Югославия пала в 1941 году под бомбардировками армий Гитлера и Муссолини. Они согласились на создание независимого государства Хорватия (НГХ) под руководством партии националистов-усташей Анте Павелича.
НГХ получила большинство территорий современных Хорватии и Боснии и Герцеговины, одновременно Павелич согласился отдать города Сплит и Дубровник Муссолини.
На полученных землях лидеры НГХ организовали убийство сотен тысяч сербов, десятков тысяч евреев и цыган. Наибольшие ужасы происходили в концлагере Ясеновац. По данным мемориального музея Ясеновац, идентифицированы 83 145 человек, погибших в этом месте: почти 48 000 сербов, 16 000 цыган 13 000 евреев, 4 200 хорватов и даже 64 украинца. 20 000 погибших были детьми.
Независимое государство Хорватия Анте Павелича проводила этнические чистки и массовые убийства сербов. Многие хорваты были его противниками и наоборот поддерживали партизан Иосифа Тито.
Жестокость Павелича и его соратников усилила югославских коммунистов во главе с Иосифом Броз Тито, этническим хорватом, который хотел перестроить Югославию на основе равноправия народов и получил поддержку и Сталина, и Черчилля.
В 1945 году югославские партизаны освободили страну от остатков войск Третьего Рейха и Анте Павелича. В новой Югославии, которая была социалистической диктатурой под руководством Тито, национальный вопрос решили федерализацией — хорваты и другие крупнейшие народы получили собственные республики. Тех, кого подозревали в национализме, — репрессировали.
Уже в 1967 году началась так называемая «Хорватская весна». Тогда ряд хорватских писателей поддержали «Декларацию о названии и статусе хорватского литературного языка», в которой подчеркивался его самобытность и необходимость иметь собственное название. В то время языки и диалекты, которыми разговаривали сербы, хорваты, боснийцы и черногорцы, называли сербскохорватскими.
Движение это длилось 4 года. Его подпитывали также экономические проблемы Хорватии и доминирование сербов в политических структурах, армии и полиции. Эти требования поддержала часть хорватских коммунистов. Против них начались репрессии.
Среди причин недовольства участников «Хорватской весны» была и необходимость отдавать значительную часть хорватских доходов от туризма на развитие слаборазвитых регионов Югославии.
Одним из осужденных был Франьо Туджман — коммунист и бывший партизан-соратник Тито, генерал-майор, который ушел из армии в исторические исследования. В 1972 году его приговорили к двум годам заключения за «подрывную деятельность».
«Тито ни был великосербом или великохорватом, он видел, сколько крови и споров было во время войны, так боролся с межнациональной враждой. И когда нанесли удар по хорватским национал-коммунистам, вскоре нанесли удар и по сербским националистам», — говорит эксперт Аналитического центра балканских исследований Анатолий Демещук.
После «Хорватской весны» наступил период политического затишья, зато выросли экономические проблемы. Долг перед МВФ стремительно рос, как и безработица.
После смерти Тито в 1980 году в Хорватии и Словении, которые были наиболее экономически развитыми в составе Югославии, усилились стремления к финансовой самостоятельности.
«Руководство страны пыталось распределить доходы на те вещи, которые немало хорватов и словенцев считали лишними: оборона, закупка техники, поддержка слаборазвитых регионов и республик вроде Косово, Македонии и Боснии», — объясняет доцент Института международных отношений, балканист Максим Каменецкий.
После смерти Тито не нашлось человека, который имел бы авторитет, чтобы стать его преемником, и руководили страной коллективно. Руководителями поочередно ежегодно становились представители республик или автономных регионов.
«Тито был сильным элементом, который объединял югославские народы и республики. После того, как он умер, было понятно, что нет силы, которая бы держала эти нации и республики вместе», — говорит хорватский историк, профессор Загребского университета Хрвое Класич.
В 1980 экономическая ситуация в Югославии существенно ухудшилась. Хорватия была раем для туристов, но все больше хорватов ехали работать за границу из-за высокой безработицы.
«В середине 80-х разница в уровне жизни между Словенией и Косово была примерно как между Британией и странами Северной Африки. Местные экономисты и политики говорили, что Хорватия больше отдает в центральный бюджет, чем получает из него», — добавляет Каменецкий.
Он считает, что триггером распада Югославии стал лидер сербских коммунистов Слободан Милошевич, с 1987 года произносил зажигательные разговора в защиту сербов и сербского исторического наследия.
«Это было впервые, когда националист стал лидером в одной из югославских республик. Он стремился стать спасителем сербов, живших в Хорватии, Боснии, Косово и Черногории. Слободан Милошевич и националисты в Сербии спровоцировали национальное движение в Хорватии, а сербско-хорватские отношения сыграли ключевую роль в распаде Югославии «, — считает Хрвое Класич.
В интервью Сербской службе BBC последний президент Югославии и бывший президент Хорватии Стипе Месич высказался о роли Милошевича в решении войн в Югославии так: «Основная причина войны заключается в том, что Милошевич хотел создать Великую Сербию, но как великий актер он обманывал мир, что на самом деле борется за Югославию».
Платформа ХДС была правой по взглядам и стремилась суверенитета Хорватии в рамках югославской конфедерации или полной самостоятельности.
«Франьо Туджман в середине 1980-х уехал в США и Канаду и начал дискуссию с антикоммунистической диаспорой. Эти люди соглашались, что должен быть какой-поиск согласия между хорватскими правыми и левыми. Поэтому он был лучшим кандидатом, чтобы выстроить доверие между детьми усташей и детьми партизан. Ему (коммунисту) заключение за национализм дало ему много козырей», — говорит историк Хрвое Класич.
Весной 1990 года в Хорватии прошли первые демократические выборы, на которых ХДС получила большинство в парламенте.
«Хорватская диаспора вложилась в ХДС финансово помогла организационно и кадрово. Это были и бывшие усташи, и югославские экономические мигранты. На это наложилась и поддержка Туджмана со стороны населения», — считает Максим Каменецкий.
«Революция бревен»
Согласно переписи населения 1991 года, 78,1% жителей Хорватии составляли хорваты, 12,2% (582 000 человек) — сербы, 0,9% — боснийцы-мусульмане, 2,2% жителей назвали себя югославами.
Победа ХДС на выборах 1990 года вызвала негативную реакцию сербов в Хорватии, которые в основном проживали в районах на границе с Боснией и Сербией.
«Сыграл роль травматический опыт Второй мировой. Тогда усташи собирали сербов на площадях и в церквях и коварно убивали. 1991 года, когда хорваты начали менять символы и делать националистические речи, во многих сербов было ощущение déjà vu, и они решили действовать на опережение», — объясняет Анатолий Демещук.
Новое хорватское руководство видело потенциальную опасность в сербах, которые работали в госучреждениях и полиции.
«Еще в 1990 году начались угрозы и вытеснения с работы, начали выгонять из высших полицейских должностей сербов. Декоммунизация в Хорватии прошла под грифом освобождение от сербского доминирования», — говорит Анатолий Демещук.
В августе 1990 года сербские политики провели непризнанный референдум об автономии районов с сербским населением. Чтобы противодействовать хорватской полиции, которая хотела сорвать голосование, они перекрывали дороги бревнами, поэтому эти события назвали «Революцией бревен».
После этого хорватский парламент принял новую Конституцию с формулировкой, что Хорватия является «государством хорватской нации и национальных меньшинств, проживающих в Хорватии». Это еще больше не понравилось лидерам сербов, которые не соглашались со статусом нацменьшинства.
Руководство Хорватии готовилось к войне и нелегально покупало оружие, а Франьо Туджман искал союзников. Не только на Западе, но и в Советском Союзе, на который пытался опереться и Милошевич.
20 мая 1991 балканист Максим Каменецкий был переводчиком Франьо Туджмана на его встрече с Леонидом Кравчуком и видел реакцию хорватского лидера на результаты референдума за независимость Хорватии.
«Я наблюдал за Туджманом, потому что он находился в соседней комнате, а двери между двумя помещениями были открыты. Тогда ему сказали, что проголосовали за независимую Хорватию. Он был очень счастлив и вдохновен», — рассказывает эксперт.
«У Туджмана была идея с помощью Украины организовать группу центральноевропейских государств, которые вместе будут преодолевать путь к европейской интеграции, идея, что украинцы и хорваты вместе могли бы стать локомотивом изменений в регионе. Он спрашивал Кравчука, может ли Украина рассматривать вопрос внешнеполитическом единстве с другими странами», — рассказывает Максим Каменецкий.
«Кроме того, его как военного очень интересовали вопросы сотрудничества в этой сфере, чтобы составить силовой блок», — вспоминает он.
Впрочем, украинское руководство жило в других реалиях.
«Еще существовал Советский Союз. У Кравчука, которого интересовали прагматичные вещи, даже в мыслях не было тогда идей, что мы куда пойдем самостоятельно. Была же идея, что СССР трансформируется во что-то хорошее и хорошо».
«Отечественная война»
25 июня 1991 Хорватия и Словения объявили независимость.
В Словении вспыхнули краткосрочные бои между словенской полицией и Югославской народной армией (ЮНА), в Хорватии между созданной при МВД Национальной гвардией и ЮНА.
Руководство Югославии решило закрыть глаза на независимость Словении, но до конца бороться за Хорватию.
Война за независимость Хорватии, которую традиционно называют Отечественной войной, стала ключевым событием, которое сформировало страну.
«Свою независимость хорваты получили в результате войны, Украине ее наоборот подарили», — считает Максим Каменецкий.
Хорватский историк, профессор Загребского университета Твртко Яковина рассказал, что тогда был консенсус почти всех хорватов, ведь люди боялись сербского национализма и Милошевича, который недооценил желание хорватов биться до конца.
Главным противником Хорватии в начале войны была Югославская народная армия. Она еще имела интернациональный характер, но военные словенцы, хорваты, боснийцы, албанцы и македонцы массово покидали ее ряды.
«Армия оказалась под угрозой исчезновения и искала спонсора. Они действительно опирались на сильную республику — Сербию, но они потеряли компонент Югославии», — отметил в интервью Сербской службе ВВС последний президент Югославии Стипе Месич.
Хорватии пришлось с нуля создавать армию. В ее составе объединились как бывшие коммунисты, которые составляли ядро офицерского состава, так и добровольцы и представители диаспоры.
«Туджман считал себя человеком, призванным историей примирить потомков партизан и усташей ради создания независимой Хорватии. Он заигрывал и с людьми из усташской эмиграции, и с кадровиками с Югославской народной армии», — объясняет Анатолий Демещук.
В ноябре 1991 года местные Национальну гвардию начали превращать в регулярную армию.
Война в Хорватии после провозглашения независимости началась с блокад казарм ЮНА.
В августе началась кровавая осада югославской армией Вуковара — города близ границы с Сербией, которое для хорватов теперь является символом борьбы за независимость, а в октябре — осада и бомбардировки Дубровника.
Конфликт сопровождался военными преступлениями и этническими чистками с обеих сторон.
В декабре 1991 года контролируемые сербскими повстанцами территории образовали республику Сербская Краина, а с января 1992 начало действовать перемирие между сторонами конфликта. В регион были введены миротворцев.
После этого основной фокус сместился в Боснию, где война вспыхнула весной 1992 года между сторонниками независимости, которую поддерживало большинство местных боснийцев и хорватов, и сторонниками сохранения в составе Югославии — сербами.
Сначала в этой войне существовал союз между хорватами и боснийцами, но сторонники Туджмана в Боснии мечтали о присоединении земель, населенных хорватами, к Хорватии. Между хорватами и мусульманами в Боснии началась война, которая привела, в частности, к уничтожению исторического центра Мостара.
Долго ходили слухи, что Слободан Милошевич и Франьо Туджман договорились о разделе Боснии.
В интервью Сербской службе ВВС Стипе Месич, который некоторое время был соратником Туджмана, а затем перешел в оппозицию, заявил, что договоренности существовали.
После провозглашения независимости Хорватия несколько месяцев пыталась получить международное признание.
«Туджман объяснял западным странам Хорватия — это Запад, защитники христианства, католики, называл ее центральноевропейской страной, а не балканской», — говорит Анатолий Демещук.
Первой Хорватию признала Исландия в декабре 1991 года, а ключевые страны ЕС и США сделали это в январе 1992 года.
Наибольшую дипломатическую поддержку оказывали Германия, Австрия и Ватикан. Для США Хорватия вышла на первый план в качестве партнера только в 1994-1995 годах.
«Клинтон изначально сделал ставку на поддержку мусульман в Боснии, потому что не хотел появления новой Палестины в центре Европы. Он чуть ли не силой заставил Туджмана с Изетбеговичем согласиться на мир 1994 года и создание мусульманского-хорватской федерации в Боснии. А потом США помогли Хорватии 1995 восстановить целостность, чтобы она помогла решить конфликт в Боснии», — говорит Анатолий Демещук.
Хорватия, нарушая эмбарго ООН, накапливала оружие.
«Россия в девяностые годы посылала хорватам самолеты с оружием. В 1995 году Туджман был на параде победы в Москве и ему дали орден. В разговорах с русскими он себя позиционировал как антифашист и победитель войны. И он открыто заявлял, что надо дружить с Россией», — рассказывает Анатолий Демещук.
Как сообщает издание Vecernji, россияне шли на нарушение эмбарго ООН, чтобы заработать, а в НАТО закрывали на это глаза. Российские пилоты в небе над Хорватией внезапно замечали технические неисправности и просили разрешения на посадку в хорватском аэропорту, где хорватские военные принимали ценный груз.
Всего с 1992 по 1997 годы в Хорватию прилетели 160 рейсов с проданным российским оружием. Именно таким образом Хорватия получила 21 истребитель МиГ-21, 11 боевых вертолетов Ми-24, боеприпасы, ракеты и бомбы для авиации, сотни противотанковых гранатометов «Фагот».
В 1995 Хорватия получила от России зенитно-ракетные комплексы С-300, которые могли уничтожать самолет на высоте от 20 метров до 27 км и на расстоянии 200 км. До сих пор спорят, планировали ли их использовать, но это был фактор сдерживания Сербии.
И это несмотря на напоказ союзнические отношения России и Белграда.
«Буря» и исчезновение Сербской Краины
Развязка в противостоянии с Сербской Краины наступила в 1995 году.
В 1994-1995 годах представители ЕС, США и Россия разработали план по решению конфликта между Хорватией и Сербской Краины Z4 — «Загреб четыре». Он предусматривал предоставление значительной части Сербской Краины автономии, хотя другая часть должна была вернуться под контроль хорватских властей. Но лидеры Сербской Краины отказались его рассматривать.
«План Z4, который поддержали западные страны, предоставлял огромные права сербам — свою валюту и автономию, например. По сути, это была федерализация. Сербы его отвергли, и это открыло путь для хорватской операции», — рассказывает Твртко Яковина.
Украинская балканистка, руководитель проекта «Балканский обозреватель» Наталья Ищенко считает, что отчасти этот план напоминал минские договоренности.
«До сих пор продолжаются споры, почему сербы отказались. Мне кажется, что они видели, что Сербская Краина не останется в тех границах, в которых она является, а уменьшится. И, во-вторых, их политической целью было не автономия, а создание Великой Сербии», — отмечает балканистка.
Провал Z4 побудил Хорватию решить ситуацию военным путем.
На тот момент Сербская Краина состояла из трех основных территорий, оторванных друг от друга — Книнской страны и Западной Славонии на границе с Боснией и Восточной Славонии на границе с Сербией.
Сначала в мае 1995 года во время операции «Молния» хорватские военные отбили у Сербской Краины небольшой район Западной Славонии. Далее настал черед основной части Сербской Краины с ее столицей Книн.
Хорватская армия, которая за счет мобилизации выросла с 100 до 250 000 человек, провела 4-7 августа операцию «Буря» в основной части Сербской Краины. Хорватские войска под командованием генерал-майора Анте Готовина (его фамилия будет не раз фигурировать в хорватской истории), взяли столицу Страны Книн. Югославия Слободана Милошевича не пришла на помощь.
Годовщина операции Буря: как Хорватия поборола сепаратизм
Потери хорватской армии составляли более 170 погибших и несколько сотен тяжелораненых. В армии Сербской Краины погибли от 560 до 740 бойцов. Число жертв среди сербского гражданского населения оценивается в более 200 человек с хорватской стороны, в более 1200 — на сербской.
Примерно 200 000 сербов бежали из Хорватии в Боснию. С одной стороны приказ об эвакуации отдал президент Сербской Краины Милан Мартич, с другой — они опасались военных преступлений.
«Противником была более целеустремленная, лучше вооруженная хорватская армия — объясняет Твртко Яковина легкость разгрома Страны. — К тому же Сербская Краина — это были наименее развитые части Хорватии, бедные, несмотря на помощь Белграда и боснийских сербов».
«К 1995 году хорватские сербы были практически полностью деморализованы, а хорваты создали сильную армию», — считает Максим Каменецкий.
Другая судьба ждала хорватское Придунавья (Восточная Славония, Бараня и Срем) — последнюю часть Сербской Краины на границе Хорватии с Сербией с населением почти 200 000 человек.
Местные политики-сербы после разгрома Страны согласились на мирную реинтеграцию.
«Я думаю мирная реинтеграция Восточной Славонии и Срема — одно из величайших достижений ООН. К сожалению, об этом мало говорят, хотя в истории не было много таких успешных кейсов реинтеграции без войны», — говорит Твртко Яковина.
По мнению Натальи Ищенко, главный результат мирной реинтеграции этого региона — сохранение тысяч жизней.
«Многие осталась в живых. Однако люди, которые руководили мирной реинтеграции, рассказывали, что им было невероятно трудно. Трудно было идти на компромисс с людьми, которые убивали их друзей и родственников. Но им пришлось».
В январе 1998 года эти территории вернулись под полный контроль Хорватии.
В декабре 1995 года прекратилась война и в соседней Боснии.
Дейтонское соглашение, подписанное под давлением Запада Туджман, Милошевич и лидер боснийских мусульман Изетбегович, конец надеждам сторонников «Большой Хорватии» на присоединение населенных хорватами регионов Боснии в Хорватию.
Соглашение предусматривало существование Мусульманско-хорватской федерации в составе Боснии и Герцеговины. В отличие от боснийских сербов, боснийские хорваты не получили права на создание собственной республики.
Многие хорватов решили, что пришло время сосредоточиться на внутренних проблемах.
Страна существенно отстала по уровню жизни от соседней Словении. Все больше вопросов возникало к приватизации, проведенной во время войны.
Дейтонские соглашения
Подписание Туджманом, Милошевичем и лидером боснийских мусульман Алией Изетбеговичем Дейтонских соглашений завершило войну в Боснии.
Западные страны были недовольны слабыми и авторитарными политическими институтами Хорватии, ситуацией с правами человека, препятствиями на пути возвращения сербских беженцев, стагнацией рыночной экономики.
«В Туджмане западный истеблишмент видел хищника, который все равно хочет откусить кусок Боснии», — говорит Анатолий Демещук.
Кроме того, Хорватия отказывалась сотрудничать с международным трибуналом по бывшей Югославии по военным преступлениям, совершенных во время Отечественной войны.
Хотя хорватские суды судили усташей, которые руководили концлагерем Ясеновац во время Второй мировой войны. Динка Шакича, который жалел, что не смог казнить больше сербов, осудили на 20 лет за убийство 2000 заключенных.
Оппозиция критиковала Туджмана за давление на СМИ и использование государственного телевидения в интересах правящей партии. В 1996 году президент несколько раз отказывался утвердить мэра Загреба, избранного от оппозиции.
«Репутация Туджмана во время войны была значительно выше, чем в конце 90-х. Он выиграл войну против югославской армии и сербов, восставших. После войны многие поняли, что нет демократии, нарушаются права человека, свобода СМИ», — отмечает Хрвое Класич.
В ноябре 1996 года десятки тысяч жителей Загреба вышли на защиту «Радио 101», которое хотела закрыть власть. Туджман уволил министра внутренних дел, которого считал виновным в том, что тот не разогнал демонстрантов.
В 1997 году Туджман использовал ореол победителя войны и с помощью доминирования на телевидении победил на президентских выборах с 61% голосов.
Но это была последняя его победа. Здоровье хорватского лидера ухудшалось, а в его окружении происходили конфликты. Умеренное крыло выступало за уступки Западу, чтобы получить приглашение в ЕС и НАТО.
К политическому противостоянию и международной изоляции добавились экономические проблемы — мировой кризис 1998 года ударил по Хорватии, 14 банков обанкротились.
«Хорватия была изолирована, де-факто стала изгоем в Европе. Мы потеряли драгоценные годы на пути евроинтеграции», — говорит хорватский историк Твртко Яковина.
После длительной борьбы с раком в ноябре 1999 года Франьо Туджман передал свои полномочия спикеру парламента на время госпитализации, а 10 декабря скончался в больнице.
ак сообщает Washington Post, экспосол США в Хорватии Питер Гэлбрейт после смерти хорватского лидера заявил: «Туджман смог осуществить свою первую мечту — создать независимую Хорватию. Дорогу к реализации его второй мечты — интеграции Хорватии в Европу откроет его смерть. Он сам стал преградой на этом пути».
Гэлбрейт отмечал, что хорваты будут помнить Туджмана за «историческое достижение» в построении целостной и свободной Хорватии, но также за «почти расистское мировоззрение», которое привело к бегству сотен тысяч сербов.
Возвращение в Европу
В январе 2000 года на парламентских выборах победила оппозиция. Лидер социал-демократов Ивица Рачан возглавил новое правительство, в котором не было ХДС.
На президентских выборах в феврале президентом избрали бывшего соратника Туджмана Стипе Месича, который оставил ХДС из-за политических разногласий с президентом в 1994 году.
Месич, который был главой правительства Хорватии и спикером Сабора в начале 1990-х, пленил хорватов своей прямолинейностью и убедительностью. Имея имидж одного из основателей хорватской независимости, он сконцентрировался на вступлении Хорватии в ЕС и НАТО.
«В 2000 году все направления политики изменились. Было очень много высоких гостей на инаугурации президента Месича, в частности, госсекретарь США Мадлен Олбрайт», — говорит Твртко Яковина.
Месич, который критиковал Туджмана за авторитаризм, наступление на СМИ и провальную экономическую политику, существенно сократил полномочия президента. В государственном аппарате перестала доминировать одна партия. Он также искал примирения с соседними Сербией и Боснией.
В 2005 году его переизбрали на второй срок.
Что касается интеграции в ЕС и НАТО, консенсус хорватов уже был не таким однозначным, как в борьбе за независимость в 1990-х.
В 2007 году опрос показал, что только 52% хорватов поддерживают вступление страны в НАТО, 25% против. Вопрос вступления на референдум не выносили, в 2009 году страна стала членом альянса.
Только в 2005 году начались переговоры о вступлении Хорватии в ЕС, которые продолжались до июня 2011 года.
В 2012 году 66,7% поддержали вступление в ЕС на референдуме, 33,3% проголосовали против. Явка составила лишь 43%.
В июне 2013 года страна стала членом ЕС.
В финансовом плане вступление в ЕС оказался чрезвычайно удачным шагом. В соответствии с Соглашением о партнерстве между Еврокомиссией и Хорватией, с 2014 по 2020 годы стране выделили из структурных и инвестиционных фондов ЕС 10,7 млрд. евро.
По 2013-2019 годы страна внесла в бюджет ЕС 2,6 млрд. евро, а получила оттуда 4,5 млрд.