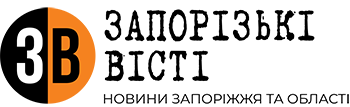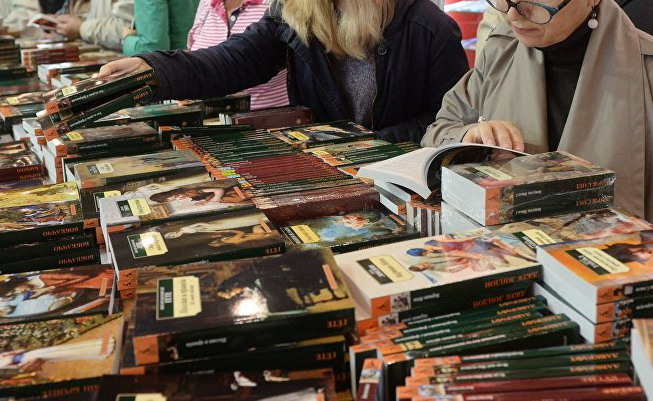Лучшие образцы детской художественной литературы “помогают нам найти вещи, которые мы даже не подозревали, что потеряли”, пишет писательница Кэтрин Ранделл. Многие книги провоцируют, вдохновляют и вызывают восхищение.
Я пишу детскую художественную литературу уже более 10 лет, но все еще сомневаюсь с определением. Но я точно знаю, чем она не является – это не книги исключительно для детей. Когда я пишу, я пишу для двух людей: себя, 12-летней, и себя сейчас, и книга должна удовлетворить два разных, но связанных между собой запроса.
Поэтому то, чего я пытаюсь достичь, когда я пишу – хоть это и не всегда удается – это изложить как можно меньше слов то, что я очень настойчиво и отчаянно хочу, чтобы дети узнали, а взрослые вспомнили.
Пишущие для детей пытаются вооружить их на будущую жизнь всем возможным знаниям. И, возможно, также вооружить взрослых против вынужденных компромиссов и разбитых сердец, неизбежных в жизни – напомнить им, что существуют и всегда будут существовать стойкие истины, к которым мы всегда можем вернуться.
Однако у большинства взрослых существует убеждение, что мы должны читать только в одном направлении, иначе мы как регрессируем. Они начинают с детской литературы, переходят к подростковой, а в конце концов и ко взрослой – и там и остаются с чувством собственного триумфа, никогда не оглядываясь назад, потому что оглянуться значило бы потерять землю под ногами.
Но человеческое сердце – это не линейный маршрут. И действительно мы можем читать совсем иначе. Я научилась читать довольно поздно, с большим напряжением и мучениями, пока, наконец, совсем внезапно, иероглифы не приобрели форму и значение – и тогда я начала читать все подряд.
Я читала “Матильду” вместе с Джейн Остин, “Нарнией” и Агатой Кристи. Я взяла с собой в университет “Путешествующий замок” Дианы Винн Джонс, крепко прижав к груди, как спасательный плот. Я до сих пор читаю “Паддингтона”, когда мне нужно поверить, что чудеса мира мощнее его хаоса.
Чтобы чтение не стало чем-то, что мы делаем для тревожной “самооптимизации” – вроде покупки хитроумных тренажеров или абонемента в спортзал каждый январь – все тексты должны быть открыты для всех людей.
Одна из трудностей такого линейного подхода к чтению состоит в том, что если постоянно читать все более сложные книги, то в конце концов у вас не останется ничего, кроме “Поминок за Финнеганом” Джойса и полного собрания сочинений французского теоретика деконструктивизма Жака Дерриды.
Другая сложность состоит в том, что такой подход предполагает, что от детской литературы можно спокойно отказаться. Я же считаю, что мы делаем это на свой страх и риск, потому что таким образом мы словно отказываемся от ящика чудес, в которых, если прочесть их взрослым глазом, совсем другая алхимия.
В. Г. Оден писал: “Есть хорошие книги только для взрослых, поскольку их понимание предполагает опыт взрослых, но нет хороших книг только для детей”.
Я совершенно не предлагаю взрослым читать только детскую литературу или даже в основном ее. Просто бывают моменты в жизни, когда это может быть единственным, что действительно нужно.
Как читают дети? Есть ли в этом процессе что-то – стремительное, вожделенное, увлекательное – к чему мы можем вернуться?
В детстве я читал с трудом все понять. Взрослые воспоминания о том, как мы когда-то читали, часто разрушает ностальгия, но моя потребность в книгах в детстве была острой и срочной, и я безумствовала, если что-то мешало мне ее удовлетворить.
Моя семья была большой, и чтение обеспечивало уединение от бурного, несколько растерянного паноптикума жизни с тремя братьями и сестрами: я могла сидеть рядом с ними в машине, но на самом деле это было единственное время, когда никто в мире не знал, где я на самом деле. была. Ползать темными тоннелями в компании хоббитов, стоять перед встречными поездами, размахивая красным флагом, оторванным от юбки: читать в одиночестве – это ступать в бесконечное пространство, куда никто не может за тобой пойти.
Как возникла детская литература
Первые детские книги на английском языке фактически являлись инструкциями по хорошему поведению. Моим любимым и строгим по тону является “Книга детей”, рукопись которой датируется примерно 1475 годом: “О дети малые, – пишет автор, – моя книга создана только для вашего обучения”. Текст представляет собой монументальный список инструкций в стихотворной форме.
В 1715 году Исаак Уоттс опубликовал свои фантастически невеселые “Божественные и нравственные песни для детей”. Предисловие автора показывает, что в 18 веке была популярна идея о том, что писать для детей было интеллектуально унизительным.
Воттс пишет: “Я хорошо знаю, что некоторые мои друзья считают, что я плохо трачу время, когда пишу для детей… Но меня утешает мнение, что ни одно занятие не слишком плохо для слуги Христа, если он таким образом может наиболее эффективно содействовать царству своего благословенного Учителя”.
Сама книга вписывается в популярную на то время категорию “возвышенно грустных”, и значительной мерой состоит из оживленных рифм о неизбежности смерти.
Я не буду гордиться ни молодостью, ни красотой,
Ибо они обезвягнуты;
Но заслужу себе хорошее имя, хорошо выполняя свой долг:
Он будет пахнуть, как роза, когда я умру.
В 1744 году вышла книга, которую часто называют первым опубликованным произведением детской литературы – “Маленькая хорошенькая карманная книга” Джона Ньюбери.
Текст Ньюбери действительно остроумный, пронизанный ноткой иронии, но его корни очевидны: он возник из массива педагогических текстов и занял свое место среди них. Также он положил начало определенной норме – детские книги в первую очередь должны быть поучительными, а уже потом развлекательными.
Мятежные сказки
В то же время параллельно развивался другой тип историй, более необузданной и мятежной природы – сказки.
Сказки никогда не были только для детей. Они предназначены для всех – стариков и молодых, мужчин и женщин, всех наций. Эксперт по сказкам Марина Уорнер утверждает, что сказки являются своеобразным культурным эсперанто: в Европе, Азии и Америке мы рассказываем похожие сказки, потому что истории мигрировали через границы так же свободно, как птицы.
Все сказки, по большому счету, имеют одни и те же составляющие: там будут архетипные персонажи – мачехи, могущественные цари, говорящие животные. Там будет несправедливость или конфликт, часто кровавый и экстравагантный. Но также обычно будет что-то – крестная фея, заклинание, волшебное дерево – дающее читателям надежду на чудо.
“Сказки, – пишет Уорнер, – демонстрируют все виды насилия, несправедливости и несчастья, но лишь для того, чтобы подчеркнуть, что они не должны продолжаться”.
Сказки внушают страх, чтобы показать нам, что не стоит так бояться. Надежда в сказках всегда острее зубов.
Этот дух героического оптимизма – оптимизма, окровавленного и задыхаемого, но все же оптимизма – является основным принципом жизни. Он говорит всем нам: ведь сказки всегда создавали как способ общения со всеми одновременно. Они дают нам модель того, как определенные типы историй – через архетипы, метафоры и базовые человеческие желания – могут объединить людей всех возрастов и происхождения, заманивая всех нас, подобно ведьм, в пространство нашего воображения.
Сказки, мифы, легенды – это основа многих вещей, и мы, взрослые, должны продолжать их читать и писать, присваивать их так же, как они владеют нами.
Лишь в середине 19 века, когда бумага стала доступнее, а уровень грамотности детей резко возрос, детская художественная литература начала учитывать подлинные желания детей. Мятежный дух сказок перерос в детские романы. Детские произведения отделились от школы и церкви и родилась первая золотая эра детских книг.
Льюис Кэрролл, Редьярд Киплинг, Дж. М. Барри и Э. Несбит в своих произведениях оставили детей без присмотра родителей, и таким образом освободили их от императивов мира взрослых.
Именно здесь отвергли идею о том, что дети милые, нежные или обязательно лучше или симпатичнее других людей, вместе с идеей, что вся логика должна быть логикой взрослых. В детстве я не питала иллюзий относительно того, что дети – милые создания. Я знала по собственному опыту, что часто дети бывают безобразными, грубыми и подлыми.
Детские книги начали играть по собственным правилам и, делая это, стали произведениями искусства – отдельными, с собственными традициями, а не разбавленными версиями чего-то другого, взрослого.
И эта традиция сохранилась. Можно нарисовать генеалогическое дерево, начиная с Питера Пена, впервые появившегося в 1902 году; затем к Мэри Поппинс в 1934 году, с ее суровым и непроницаемым волшебством; к анархической и сюрреалистической логике “Там, где живут чудовища” 1963 года и “К нам на чай заходил тигр” 1968, и дальше, и дальше, и дальше.
Это генеалогическое дерево продолжает расти. Детская фантастика сегодня до сих пор пронизана точно такой же давней безумной жаждой справедливости, которая характерна для сказок.
Детские книги специально написаны для того, чтобы их читала та часть общества, не имеющая политической или экономической власти. Люди, у которых нет ни денег, ни права голоса, ни контроля над капиталом, трудом или государственными институтами. Которые ориентируются в мире, зная свою уязвимость. И, таким образом, люди, еще не умеющие навязывать собственные предубеждения другим людям и грызть сами себя. И поскольку во многих случаях в жизни – что бы мы ни говорили – взрослые тоже бессильны, мы, взрослые, должны обращаться к детским книгам, чтобы напомнить себе о том, что мы оставили в детстве.
Детская художественная литература также помогает нам снова найти то, что мы даже не подозревали, что потеряли. Взрослая жизнь полна забвения. Я забыла большинство людей, которых я когда-либо встречала. Я забыла большинство прочитанных книг, даже те, которые меня изменили навсегда. Я забыла большинство своих откровений. И в разные периоды своей жизни я забывала, как читать: как отвергнуть скептицизм и моду и довериться книге. Рискую показаться безумной оптимисткой: детская художественная литература может заново научить вас читать с открытым сердцем.
Когда вы читаете детские книги, вы снова имеете шанс читать, как ребенок: найти дорогу назад, назад в то время, когда новые открытия приходили каждый день и когда мир был огромным, до того, как обыденность ограничила ваше детское воображение, превратив его в приложение.
Но воображение не есть и никогда не было чем-то дополнительным – оно лежит в основе всего, оно позволяет нам ощущать мир с точки зрения других и, таким образом, является предпосылкой самой любви. Именно Эдмунд Берк в 1790 впервые использовал термин моральное воображение: способность нравственного восприятия выходить за пределы быстротечных событий отдельного момента и за пределы личного опыта. Для этого нам нужны книги, специально написанные, чтобы питать воображение, которые дают сердцу и разуму неожиданного толчка – детские книги. Детские книги могут научить нас не только тому, что мы забыли, но и тому, что мы забыли, что забыли.
И напоследок: мне больше нравится взрослая жизнь, чем детство – я люблю голосовать, пить алкоголь и работать. Но бывают времена во взрослой жизни – по крайней мере, в моей – когда мир кажется пустым, плоским и без правды.
Именно в такие моменты детские книги для меня делают то, что не может сделать ничто другое. У современных детских книг все еще есть воспитательные корни, но то, чему они пытаются научить нас, изменилось. Для меня детские романы говорили и до сих пор говорят о надежде. Они говорят: вот так выглядит храбрость. Вот так смотрится щедрость. Из-за волшебников, львов и пауков, которые говорят, они говорят мне, что мир, в котором мы живем, – это мир людей, которые шутят, работают и просто живут.
Детские книги говорят: мир огромен. Надежда имеет значение, храбрость имеет значение, разум, эмпатия и любовь имеют значение. Это могу быть правдой, а может, и нет. Я не знаю. Но я надеюсь, что это верно.
Эта статья – отрывок из книги Кэтрин Ранделл “Почему стоит читать детские книги, даже если вы взрослые и мудрые” (Why You Should Read Children’s Books, Even Though You are so Old and Wise).